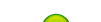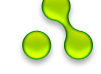Серебристая шкурка
В ту зиму снегу выпало много. Крайние к поскотине избы замело до самых труб. Выедешь в поле – лошадь в сугробе вязнет, не только воз, а пустые дровнишки еле вытаскивает. В прежние зимы, бывало, в осинниках и в березовых колках весь снег следами прострочен: тут тебе и заячья тропа, и Горностаева стежка, и мышки-полевушки мелкая вязь, и черного тетерева лапчатая поступь. А на этот раз под сугробами вся живность попряталась, лес опустел. Голодные волки каждую ночь начали в деревню забегать.
Вон там, видишь, где речка течет, под самым скатом бугра, стоял двор Емели Куяна. Мужичонка он был бедный, хоть и знал всякой ремесло. Пимы скатает. Сапоги протачает. Корзину сплетет. Дугу согнет и любо-дорого как изукрасит. А на богатство талану не было. Избенка покосилась. Плетни стояли, как пьяные. Сам зиму и лето в рваном тулупе ходил. Пить не пил, сладко не ел, а заработанные копейки, как вода в решете, не держались.
У этого Емели Куяна был сынишка Федот. Парень как парень. Ростом и здоровьем не был обижен, а характер весь в отца. Иные парнишки, бывало, на улице в шарик либо в бабки играют, а он дома сидит, чего-нибудь мастерит.
Вся утеха у него только в том и была, что с Кудрей возиться.
Ну, надо сказать, такую собаку, как Кудря, не в каждом ре найдешь. Всякую она речь понимала, только что книжки тать и по-человечески разговаривать не могла. Шапку, хоть в лес унеси, спрячь, она найдет и домой принесет. Под самым носом мясо положи и скажи: "Трогать не смей!" – она с голоду подохнет, а не тронет. Морду на лапы положит, отвернется, чтобы запахом в нос не сильно ударяло, и сторожит.
Вот в эту зиму, как стали волки в деревню похаживать, Федотко собаку не уберег. Как-то ночью Кудря заскулила, зарычала, шерсть ощетинила, а парнишка возьми и выпусти ее во двор. Понадеялся на силу. Думал, Кудря волков одолеет. А их оказалось не один и не два. Не успела собака пасть открыть, как волки ее свалили, на бугор утащили и слопали. Лишь хвост от Кудри остался.
Федотко, наверно, с неделю тосковал. А потом как-то говорит отцу:
– Тятя, дай мне твою фузею.
– А зачем тебе? – спрашивает Емельян.
– Буду волков подкарауливать. Я им Кудрю так не оставлю!
– Смотри, как бы они тебя самого не съели.
– Не съедят. Ты только картечи в заряд положи.
Понятно, убытку от одного заряда немного. "Куда ни шло", – подумал мужик. Положил в ружье горсть пороха да горсть крупной дроби, хорошенько шомполом пыжи забил и кремень наладил.
Для порядка парня предупредил, чтобы, когда стрелять будет, сильнее к плечу приклад прижимал, а то сам с ног слетит.
Федотко в огороде засаду устроил. Выкопал в снегу ямку, сверху чащой забросал, сеном притрусил, фузею поставил на треногу, нацелил ее на бугор, на коем волки Кудрю растерзали, и стал ждать.
Одну ночь в засаде просидел, потом вторую и третью. Ночи стояли темные. Иной раз покажется, вроде тень метнулась, а вглядится – нет никого. Хотел было парень уже всю эту затею бросать. Но на четвертую ночь небо немного прояснилось, в разрывах туч месяц начал выглядывать. Как выглянет, по снежным сугробам будто иголки насыплет и огоньками их осветит.
В этом снежном мареве начало Федотку казаться: вот будто-бугор зашевелился, дымок закурился, а потом обозначилось что-то, похожее на зверя. И зверь какой-то чудной: морда вострая, ушки торчком, туловище низкое и длинное, хвост пушистый. А по шкуре с головы до кончика хвоста серебряные искры то гаснут, то вспыхивают. Тряхнул Федотко головой, глаза протер. Нет! И в самом деле зверь на бугре сидит: морду поднял, туда-сюда ею водит, к разным запахам принюхивается.
– Ага-а! – обрадовался охотник. – Это ты, наверно, и слопал нашу Кудрю да опять пришёл. Вот я тебе сейчас дам!
Приложился к фузее, курком щелкнул, поймал зверя на мушку и ка-а-ак бахнет! Целый сноп огня вылетел, в лесу будто сотни дровосеков топорами застучали, в плечо прикладом отдало, словно оглоблей ударило.
Подождал он немного, огляделся и видит: зверь на бугре лежит, значит, не зря фузея с ним разговаривала.
Наутро по всей деревне, из избы в избу, слух побежал. Мужики, бабы, детишки собрались во двор к Емеле Куяну чудного зверя смотреть. Руками по бокам хлопали: что за зверь, откуда такой явился? На волка не похож, смахивает больше всего на лису. Но в наших местах лисицы все рыжие, а у этой масть темная: как туча, шкурка пушистая и мягкая, словно пух, кончики волос все, как один, белые, серебристые.
Одна только бабка Дарья не похвалила Федотка. Осмотрела шкурку, поворчала, головой покачала и спрашивает:
– Ну, Федот, куда ты теперича эту невидаль девать будешь?
– Шапку сошью, – отвечает Федотко.
– Не по твоей одеже шапка-то будет.
– Тогда, стало быть, рукавицы излажу.
– Рукавицы теплые выйдут. Однако зря лишь товар испортишь. Шкурка-то, видать, не простая. Не ровен час, попадет тебе за эту шкурку от Снеговушкн.
Озадачила старуха парнишку. Почесал Федотко в затылке, не нашелся, как ответить. Бабка-то Дарья всякую всячину знала, с ней спорить не будешь.
До самого вечера парень места себе не находил. За четыре ночи хотел на полатях отоспаться, а тут и сон пропал. Нажил, себе заботушку. Как бы, и верно, худа не вышло.
Тем временем отец серебристую шкурку с лисички снял, очистил да присолил и сидел теперь, на пальцах прикидывал:
– Пожалуй, за нее парнишке можно пимешки справить А если не пимы, то шубенку. Если не шубу, то штаны и рубаху бумазеевую.
Федотко гюбоялся о бабкиных словах отцу рассказывать. Батько-то был на руку крутой, скорый, того и гляди, рассердится, зашумит. Потому и начал его мало-помалу отговаривать. Шкурку-де продавать не к чему. Она пить есть не просит, в лес не убежит, пусть пока дома побудет. Мне, дескать, ни пимов, ни шубы ненадобно, хорошо и в старой шубенке зиму пробегаю.
Емельян послушал его, подумал и рукой махнул:
– Ладно, не будем продавать: может, самим в хозяйстве пригодится.
Принесли шкурку в избу, повесили на стенку, на гвоздь. После ужина залез Федотко – на полати, старым тулупом укрылся. Вроде и спать охота, а не спится. Слова бабки Дарьи никак из ума не идут. Снеговушка небось шутки шутить не станет. Что-то не слыхать, чтобы она добро людям делала.
Лежит парень, с боку на бок поворачивается.
Мать ухватом погремела, посуду перемыла и начала на печи спать укладываться. Вот и отец самосаду накурился, накашлял-ся и улегся. Лучинка в треножке догорела, остатки ее упали в таганчик с водой, и наступила такая темнота, хоть глаз выколи. Только на стене, где шкурка повешена, голубые искорки вспыхивают.
Вскоре первые петухи пропели. Значит, время-то близко к полуночи. Лежал-лежал Федотко и задремал. Но только задремал, вдруг слышит, будто кто-то его зовет: "Федотко! Федотуш-ко-о!"
Поднял он голову, прислушался. В избе тихо, а с улицы, и верно, кто-то его имя называет.
Соскочил он с полатей, подошел к окну, ухом приложился к стеклу и опять услышал: "Федотушко-о!"
Будто далеко где-то кричат.
Ну, Федотко и раздумывать не стал. Небось чужой человек не будет в этакую пору звать. Может, кто-то шел да с дороги сбился.
Вышел он во двор, со двора – в огород, из огорода – на бугор возле речки. А ночь стояла глухая, ни одной звездочки в небе не видать. Лишь месяц из-за тучи выглянул, ухмыльнулся я опять спрятался.
Идет Федотко без пути-дороги, прямо по сугробам. Все тот же голос зовет и зовет. Вот поскотину миновал, вот уже и Марьино болото. Кругом камыш, тальники да березы голые.
Вдруг откуда ни возьмись ледяной дом перед ним объявился. Крыша выше берез, вместо окон камни-самоцветы вставлены, так и горят, так и играют, как дуга-радуга! Ветерок дунет – колокольчики на башенках звенят. На нижней ступеньке крыльца два сторожа стоят, о-ба ростом аршин с вершком, бороды до пят.
Остановился Федотко, рот раскрыл: откуда тут, на Марьином болоте, такая хоромина появилась?
На себя посмотрел и себя не узнал: пимы на нем новые, шуба новая, дубленая, шаровары плисовые. Фу-ты ну-ты, как жених, нарядный!
По широкому полю, по снежному покрову ветерок промчался, метелица завихрилась, поземка побежала, а вслед за тем на крыльце дома сама хозяйка Снеговушка появилась.
Федотко, бывало, как к деду Матвею пойдет ночевать, всю ночь дедовы сказки про Снеговушку слушает. Дед не раз говорил: если поземка .по полю стелется, так и знай, это Снеговушка бегает; если метель завихрилась, Снеговушка плясать пошла.
Только никто ее никогда не видел. А она вон какая: молодая, румяная, ростом высокая, платье на ней белое, как у невесты, на руках перстни, в волосы звезды вплетены.
Поманила Снеговушка Федотку к себе:
– Это я тебя звала. Ну, добро, что пришел. С повинной головы спросу меньше. Расскажи-ко мне, как это ты лисоньку из фузеи застрелил, кто тебя этому надоумил?
Испугался парень. Коли бабка Дарья правду сказала, попадет теперь от Снеговушки! И рад бы домой убежать, да ноги не идут. Рад бы слово вымолвить, да язык будто к зубам пристыл.
– Говори, не бойся,-засмеялась Снеговушка. – Я тебе худа не сделаю.
Федотко и рассказал, как дело случилось, и про Кудрю рассказал, и про волков. Ничего не утаил.
Послушала его Снеговушка, говорит:
– Коли так, то ладно. Видно, сама Серебрушка виновата, не побереглась. А жалко ее. Эта лисонька была темной ночью из снега рожденная, лунным светом умытая. Одежка на ней без-цены.
– Я тебе ее шкурку отдам, – сказал Федотко, а сам про себя думает: "Получит – небось, на меня сердиться не будет".
– Завладел, так пользуйся, – молвила в ответ Снеговушка. – У меня и без нее богатства хватит, дарить не передарить, возами возить не перевозить. Хочешь, сам посмотри!
Махнула она рукой – в ледяной хоромине все двери настежь открылись. В каждой горнице стоят сундуки кованые, серебром и камнями-самоцветами доверху наполненные. Полы в горницах тоже самоцветами выложены, будто небо плитками нарезано и на пол настлано.
Федотко даже глаза рукавом прикрыл.
А Снегов ушка засмеялась и давай свое богатство пригоршнями в небо кидать. Как кинет – так в темном небе огненный столб встанет, либо огненная дорога ляжет. Люди по деревням поди смотрят и думают: что это за сияние такое? И не догадаются, что это Снеговушка играет.
Вот это диво так диво! Такого во сне не увидишь!
Натешилась Снеговушка и говорит:
– Ну, понял теперь?
– Все понял, – ответил Федотко.
– Так что шкурку себе оставь. И запомни: она не простая, а заветная. Кто ею владеть будет, тот на всю жизнь счастье получит. В память об этой лисичке любое желание исполню. Только желание не сразу высказывай. Сначала подумай, с сердцем своим посоветуйся, а потом говори. Один раз исполню, на второй раз не спрашивай.
Федотко что-то хотел у нее узнать, но тут по полю поземка побежала, метелица завихрилась, ледяной дом исчез, будто его вовсе не бывало. Ни месяца на небе, ни звездочек. Один голый лес кругом да сугробы. В деревне, во дворах, собаки залаяли, петухи – запели. Шубенка на Федотке снова старая оказалась и пимешки старые, заплата на заплате.
Вернулся Федотко в избу. Отец все еще спит, во сне что-то бормочет. За печкой тараканы шуршат. Шкурка на стене серебрится. Потрогал он ее руками, вздохнул: нажил-де с тобой заботы. Потом сел на лавку и начал думать: что же делать? Это ведь только сказать легко, чтобы с сердцем посоветоваться да пожелать чего-нибудь. Поди-ко разберись, которое желание лучше, которое хуже. Гармонь, что ли, у Снеговушки выпросить? Такую же гармонь, как у Алехи, с двумя колокольцами. Научиться на ней играть да песни петь. Однако петь будешь, пока молодой, а под старость, пожалуй, не захочешь. Стало быть, не годится гармонь. А может, деньгами Снеговушка наградит? Нуж-дишки дома-то полным-полно. Изба старая, крыша, того и гляди, провалится. На лето надо опять в поскотину ехать, дерно драть, крышу заново перекрывать. Прясло в огороде тоже развалилось. Не иначе, как придется на себе жерди из лесу таскать. Поди-ко потаскай: пока две жерди волоком на горбу проволочешь, рубаха не один раз взмокнет. У матери пониток весь худой, полушалок – дыра на дыре. В самый раз деньги-то пришлись бы. Только вот беда: сколько их надо? Мало попросить – нуждишку не поправить. Много попросить, как бы худа не случилось. Тятька йкак-то говорил: "Денежка тогда хороша и радостна, когда она своими руками добыта, а к кому денежка легко придет, от того она легко и уйдет, либо на весь век по рукам и ногам свяжет". Вон Ефим Пестерь из-за денег-то всю семью замордовал: и старуху, и сноху, и сыновей. Два крестовых дома построил, в гумне скирды стоят по два года немолоченными, а в доме свежей шанежки не увидишь. Вся деревня его клянет. Где тут радости ждать от даровых денег? Лучше уж без них жить. Коли вправду Сиеговушка желание исполнит, надо попросить у нее новой одежки и себе, и отцу с матерью.
Пожалуй, Федотко так бы и решил, но в это время сердце словно на ухо начало ему нашептывать: "Эх, Федот, Федот! Купят тебе пимешки – износишь, купят новые шаровары – порвешь. Обноски в огород выбросишь и забудешь. Не в одеже ведь счастье-то! В новую одежу можно и пень одеть, он красивее будет, а все-таки пеньком и останется. Да какую еще тебе радость надо? Сам ты парень здоровый, есть у тебя отец с матерью. Лениться не будешь – одежу купишь, избу себе новую построишь".
Пока так-то думал, да про себя судил-рядил, на дворе совсем рассвело. Мать печку истопила, отец за оградой снег убрал, корове сена подбросил. Ничего Федотко придумать не мог. Хотел отцу сказать, но не решился: не поверит про Снеговушку.
Достал с полки шило, дратву и сел пимешки чинить.
В это время слышит, мать отцу говорит:
– Надо бы, Емеля, к горбатой Дуне сходить, пирожок отнести. Сколько годов девушка с места не сходит, радости с детства ни капли не видела.
– Ну что же, пошли сынишку, пусть отнесет, – ответил отец. – Мы от одного пирожка не обеднеем.
Тут Федотко и подумал: если вправду Снеговушка говорила, что серебристая шкурка заветная, то кому, как не Дуне, владеть ею?
Лет до пяти была она девчонка справная, а потом вдруг что-то приключилось: начала на поясницу жаловаться, видеть стала плохо. Года через два вырос у нее на спине горб, ноги отнялись, глаза темной водой залило. Родители к попу ее возили, знахарей приводили. Да ведь эти попы и знахари на один аршин меряны, им бы только с мужика последнюю полушку сорвать, а там хоть трава не расти. Так Дуня и осталась жизнь бедовать.
Вот уж обрадовался парень, когда Дуню вспомнил!
Взял он у матери пирожок с капустой квашеной, попутным делом и серебристую шкурку за пазуху сунул.
Ты посмотрел бы, какая Дуня была: маленькая, как стручок, сухая да тощая. А в этом маленьком тельце большая боль поселилась. Ноги ноют, по горбу словно кошки скребут. Ночью девчонка криком кричит, днем кричит, никакого покою ей нет.
Остановился перед ней Федотко, пирожок подал.
– Это тебе, Дуняша, мама послала.
А она руками машет:
– Не надо мне... ничего не надо...
– Да ты хоть откуси, попробуй пирожка.
– Не хочу. Ты бы мне лучше свежей травки принес в руках подержать, к лицу приложить. Либо цвету с черемухи... либо дал бы в лесу иволгу послушать. Измаялась я...
Федотку и без того ее жалко было, а тут у него слезы на глаза навернулись.
– Ладно, Дуняша! – сказал он в ответ. – Будет травка, будет белый цвет с черемухи. Вот тебе мой подарок.
Вынул серебристую шкурку и на Дуню накинул.
Как только пушистый мех ей на плечи упал, будто солнышко по ее лицу пробежало. За сколько-то годов первый раз улыбнулась Дуня, схватила подарок обеими руками, к щеке прижала.
– Хорошо-то как...
А Федотко тут и добавил:
– Хочу, Снеговушка, чтобы Дуняша на весь век здоровой и веселой стала, чтобы краше ее по всей деревне никого не было.
Не зря Снеговушка обещание дала. Как только Федотко желание высказал, враз оно и исполнилось.
Соскочила Дуня с постели, про хворь забыла, посмотрела на себя в зеркало: куда тебе, какая красавица!
Жить теперь Дуне до старости, ни единой слезы не пролить!
Сказывали старики, будто Федотко потом Дуняшу за себя высватал, и будто бы счастливее пары по всей нашей деревне никогда не бывало.